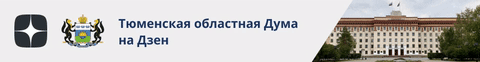
Основанная как город-крепость, Тюмень на протяжении всего XVII столетия играла роль важного военно-стратегического пункта – форпоста Русского государства за Уралом. Вплоть до 1766 года Тюмень сохраняла старую планировку: с южной стороны проходили земляной вал и ров, стояли остатки острога.
Именно таким застал город новый губернатор Сибири Д.И. Чичерин. С его именем связано активное внедрение новой градостроительной политики в Тюмени.
Пограничный форпост
Первые десятилетия истории Тюмени проходили на фоне многочисленных военных столкновений со степными кочевниками – ногайцами, калмыками, кучумовичами – сыновьями и приверженцами когда-то могущественного сибирского хана Кучума. Нападая на близлежащие русские деревни и татарские юрты, они каждый год несли с собой разорение и смерть, противостоять которым было, казалось, невозможно.
Один из таких набегов произошел в августе 1608 года. Тогда ногайская конница, сметая все на своем пути, прорвалась к Тюмени, и воевода М.М. Годунов бросил навстречу врагу казачий отряд во главе с атаманом Дружиной Юрьевым. Вытеснив противника за Исеть, русские ратники неожиданно напали на него и «многих побили, и полон весь вернули».
Иначе развивались события в 1634 году, когда кочевые орды «деревни пожгли и скот угнали, крестьян многих побили, а иных крестьян с женами и с детьми в полон увели». Отправленные в погоню 300 служилых людей вернулись ни с чем, потеряв в боях 50 человек.
В этих условиях военный гарнизон Тюмени являлся одним из самых крупных в Сибири и постоянно пополнялся новыми отрядами стрельцов, казаков, а позднее – «литовцами» и служилыми татарами. Кроме них, военную службу несли белорусы, украинцы, марийцы, черемисы, башкиры, узбеки, бухарцы. И хотя последние обычно попадали в Тюмень в порядке исключения, таких многонациональных воинских соединений в то время, пожалуй, нигде не было.
В 1624 году тюменский гарнизон насчитывал 326 воинов, в 1636 году – 849, а в 1699-м – 945. По большей части это были пешие бойцы, а конное подразделение в лучшем случае составляло треть гарнизона.
В 1630 году, например, тюменская конница включала 60 конных казаков, 42 «литовца» и 76 служилых татар.
Обязанности военных были разнообразными и трудными. Так, конные отряды участвовали в степных походах, в военных экспедициях за солью, привлекались к обороне других сибирских городов, сбору ясака и податей, поимке беглых колодников и государевых «изменников». Они же служили гонцами и послами. В длительные и дальние командировки чаще направляли пеших казаков и стрельцов, которые несли караульную службу, сопровождали «в провожатых и гребцах» казенные грузы и партии ссыльных, привлекались для разных «мелких посылок».
В сравнении с ополчением Европейской России военная оснащенность тюменского гарнизона была заметно хуже. Единственный комплект полевой униформы менялся раз в три-четыре года. «Носильное платье» (кафтан серого цвета), штаны по колено («портки»), высокие кожаные сапоги, железные шапка и кольчуга – вот вся амуниция рядового.
Из оружия военные могли рассчитывать на тяжелые фитильные ружья – пищали, и бердыши (разновидность топора). Помимо них, на плече воина висел ремень с принадлежностями для зарядки ружья («берендейка»), на который, кроме пеналов с пороховыми зарядами («зарядцами»), подвешивались сумка для пуль и рог с порохом.
Даже при хорошей сноровке на подготовку к выстрелу требовалось не менее двух-трех минут. Для этого из «зарядца» в ствол ружья насыпалась заранее отмеренная порция пороха, из сумки доставалась пуля, которая вкладывалась в ствол и прибивалась шомполом, на полку из рога насыпался затравочный порох, к собачке замка прикреплялся заранее раздутый фитиль. После этого оставалось по команде нажать спусковую скобу и прижать фитиль к полке. Дальность стрельбы была ограничена – в противника имело смысл стрелять, если тот находился на расстоянии не далее 150 метров.
Ранения, увечья, плен были обычными явлениями в жизни рядового военного. На несколько лет могла затягиваться командировка тюменских стрельцов и казаков вглубь Сибири. Так, в 1626 году в Тюмени был сформирован отряд из 300 человек, который двинулся на восток и через год основал первый русский острог в Восточной Сибири, названный Енисейском. Успех экспедиции был столь значительным, что по указу царя Михаила Фёдоровича каждому участнику похода, кроме обычного жалованья, выдали еще половину его денежного оклада и на пять лет освободили от всяких пошлин с купли-продажи.
Позднее тюменские стрельцы и казаки ходили за Енисей и на Байкал.
В 1652 году они впервые отправились в далекую Даурию (старинное название местности, лежащей к востоку от озера Байкал). В следующей экспедиции, в 1655 году, под командованием воеводы Афанасия Пашкова участвовали 40 человек. Примечательна эта экспедиция не только результатом государственного масштаба – закреплением Даурии за Россией, но еще и тем, что тяготы военных разделил знаменитый идеолог русского старообрядчества протопоп Аввакум Петров.
Аввакум четыре раза бывал в Тюмени. Будучи незаурядной личностью и превосходным проповедником, он сумел обратить в своих «духовных детей» тех стрельцов и казаков, которые вместе с ним пережили бремя длительного и голодного забайкальского похода. Такое влияние не прошло бесследно. Возвратившись домой, воины делились услышанными проповедями, и тюменская старообрядческая община стала одной из первых и крупных в Сибири, причем староверы города открыто называли себя последователями Аввакума.
В дальних походах, связанных с освоением русскими людьми необъятного азиатского материка, постоянно находилась довольно значительная часть тюменского гарнизона: в конце 1620-х годов – около 64% его состава, в конце 1660-х годов – 56%, в 1685 году – 37%. Порой нужда в воинах из Тюмени была настолько велика, что в их отсутствие для охраны города зачастую привлекались посадские люди и крестьяне. Так случилось в 1683 году, когда для сбора казенного зерна и его последующей доставки в Тобольск из Тюмени были «высланы» все «конные и пешие служилые».
Ослабление непосредственной военной угрозы для региона во второй половине XVII века не привело к сокращению военного контингента. Напротив, в соотношении к мирному населению его численность только увеличилась. Так, если в 1624 году в Тюмени к служилому сословию принадлежало 44% горожан-дворовладельцев, то через полвека – почти 70%, свидетельствуя о том, что значение города как военно-административного центра со временем только усиливалось.
В конце XVII века отношения с соседями вновь обострились: на юге шла война между степными племенами. Теснимые ойратами Джунгарского ханства казахи начали нападать на русские селения. Власти вновь пришлось мобилизовать свои ресурсы. Так, в 1692 году для защиты пограничных районов из Тюмени была командирована конная гвардия из 120 человек.
Военные стычки, ослабляя противоборствующие стороны, рано или поздно заканчивались. На смену напряженности в отношениях приходило желание добиться выгоды с помощью мирных переговоров. Дипломатия оживляла торговые связи, в которых нуждались все. Но и в условиях мирного времени военный гарнизон должен был быть наготове. Международная торговля, которая велась у стен Тюмени, таила в себе ряд опасностей, ставила иные проблемы. Помимо организации порядка и размещения купцов, которые должны были обеспечить власти, следовало пресекать нарушения правил ведения торговли, например, не допускать продажи чужеземцам оружия и спиртного. Проще говоря, на город возлагались функции таможни. Отдельной задачей у городских властей значилось ведение разведывательной деятельности и пресечение подобных попыток со стороны иностранных торговцев. Опыт прошлого стал надежной основой решения новых важнейших задач по освоению региона и организации мирной жизни.
Начало каменного строительства
Вопрос о каменном строительстве был поставлен в Тюмени после пожара 1695 года, когда в огне погибли девичий монастырь, три приходские церкви, таможенная изба, 104 лавки, 604 двора на посаде и другие строения. В воеводскую канцелярию поступила грамота Сибирского приказа, предписывавшая «исподволь» готовиться к новому для города «мастеровому делу». Однако только через несколько лет эти «прожекты» стали воплощаться в жизнь: отсутствовали опытные мастера, в казне не было средств.
Первым кирпичным зданием Тюмени стали государевы денежные амбары с Благовещенской церковью над ними. Для их строительства на вое-водском дворе были выложены специальные печи для обжига кирпича и черепицы, изготовлением которых занимались девять «кирпишников» под руководством тюменского стрельца Савватея Андреева Черепанова.
Для первой каменной постройки воевода О.Я. Тухачевский выбрал участок крепости на крутом берегу Туры, где до недавнего пожара располагалась первая в городе Рождественская церковь. Весной 1700 года здесь был заложен фундамент. Но затем дело застопорилось из-за отсутствия в Тюмени каменщиков. Лишь в 1702 году после неоднократных обращений в Сибирский приказ из Тобольска были направлены Федор Меркурьев Чайка и Кирилл Григорьев Шадрин.
Кирилл Шадрин в 1690-е годы работал творильщиком извести на строительстве тобольского Софийского двора, в 1701 году принимал участие в «городовом строении» Тобольска. Более опытным был Фёдор Чайка. Еще в 1682 году он приехал из Москвы в «сибирскую столицу», где в течение 20 лет участвовал в сооружении различных объектов Софийского двора, в том числе и кафедрального собора. Он умел составлять смету и работать самостоятельно. В 1708 году его, как опытного каменщика, отрядили для «кирпишного» строительства в Енисейск.
Казенные каменные амбары были построены за один сезон, к концу 1702 года. Сразу же после этого началось сооружение Благовещенской церкви: через год возвели своды, спустя еще год, 31 октября 1704 года, митрополит Сибирский Филофей Лещинский освятил ее.
Полностью строительство храма закончилось около 1708 года, когда была достроена колокольня. Внушительная и нарядная Благовещенская церковь связала воедино все силуэтные вертикали Тюмени, стала центральной точкой города.
В 1706 году Филофей Лещинский послал Петру I «доносительную статью» с просьбой разрешить построить в тюменском Преображенском монастыре «небольшую каменную подаянием мирских людей церковь». Вскоре разрешение было получено, и к середине 1708 года было заготовлено около 100 тысяч штук кирпича, а также известь и бутовый камень. Одновременно Филофей распорядился изготовить пять иконостасов и заключил договор с каменных дел подмастерьем Матвеем Максимовым на строительство храма.
Начавшееся в 1708 году сооружение соборной монастырской церкви продолжалось семь лет. Четыре последних года строительство шло под непосредственным наблюдением самого Лещинского, который, приняв схиму, жил в Преображенском монастыре. 3 июня 1715 года произошло освящение собора. Он стал называться Троицким, дав монастырю новое имя.
С завершением первых двух монастырских церквей каменное строительство в Тюмени прекратилось на 10 лет. Новый шаг к возобновлению «каменного дела» был сделан опять же Филофеем Лещинским, который добился разрешения построить на территории Троицкого монастыря церковь Петра и Павла. Тогда же приступили к возведению настоятельских покоев и каменной ограды вокруг монастыря.
Но в 1727 году Филофей умер, и монастырская казна стала быстро истощаться. Строительство в монастыре замерло и возобновилось только в 1730-е годы. К 1739 году удалось завершить постройку ограды и двухэтажных настоятельских покоев, еще через два года – колокольни Петропавловской церкви. Сама церковь была закончена в 1755 году.
Церковь Петра и Павла, украшающая Троицкий монастырь, оказалась последним сооружением крупнейшего в то время архитектурного комплекса города. Это уникальное здание – единственный в регионе храм с крестообразным планом, прототипом которого можно считать церковь на Экономических воротах Киево-Печерской лавры, построенную в 1698 году.
Первые регулярные планы города
В 1762 году была образована «Комиссия о строении Санкт-Петербурга и Москвы», которая разрабатывала градостроительные принципы и приемы застройки столиц. На следующий год такая практика распространилась и на другие города. Поводом к этому послужил большой пожар в Твери, после которого город был полностью перепланирован на новых «регулярных» началах и стал своеобразным эталоном реконструкции остальных городов империи. Более 400 городов получили новые планы. Регулярная планировочная структура имела целый ряд практических достоинств: улучшала транспортные связи, ориентацию, облегчала реализацию проекта. Четкость, симметрия, порядок – эти черты отвечали новым представлениям о красоте города. Сибирь с самого начала была вовлечена в эти грандиозные мероприятия.
Вторая половина XVIII века была для Тюмени временем становления регулярной городской структуры. Вплоть до 1766 года город сохранял старую планировку. С его южной стороны еще проходили земляной вал и ров, стояли остатки острога. Эти укрепления не имели практического значения и давно не обновлялись. В справке, данной Тюменской воеводской канцелярией Сухопутному кадетскому корпусу, говорилось о них: «А оные мерою: острог двух сажен с половиною, ров – вода в сажень, вал – с аршином. И все иное ветхое… а с протчих сторон город ничем не огорожен». В таком состоянии нашел Тюмень новый губернатор Сибири Д.И. Чичерин, занявший этот пост в 1763 году. С его именем связано активное внедрение в сибирскую градостроительную практику принципов «регулярства». Вскоре после своего назначения Д.И. Чичерин получил из Петербурга предписание о подготовке плана Тобольска. В качестве образца была послана копия плана Твери, который разработали по заданию «Комиссии о строении» архитекторы М. Казаков, А. Квасов и П. Никитин. Как человек дальновидный, Д.И. Чичерин поручил учителям и ученикам Тобольской геодезической школы подготовить планы не только Тобольска, но также Тары и Тюмени. К 1765 году они были разработаны. Жизнь показала, насколько своевременно это было сделано: в 1766 году в Тюмени случился новый пожар, уничтоживший всю центральную часть города. Главной причиной столь катастрофических последствий, по мнению Д.И. Чичерина, явились беспорядочность и теснота застройки.
Сразу после пожара, 23 июля 1766 года, план застройки Тюмени был послан на утверждение Екатерине II. Он был рассчитан на деревянную застройку, но, по утверждению губернатора, мог «остатца… и для каменного строения».
2 ноября 1766 года Сенат уже выслал сибирскому губернатору «конформированный» императрицей план города, а заодно и проекты «образцовых» домов для застройки. Вскоре они поступили в Тюменскую воеводскую канцелярию, но впоследствии корректировались.
Приступив к регулярной застройке Тюмени, Д.И. Чичерин проявлял большую настойчивость и последовательность. Ответственность за строительство он возложил на геодезистов, которых за задержку документации или вымогательство у населения взяток разрешалось отдавать в рекруты. Строгие наказания следовали за нарушение установленных строительных норм. Так, отклонение от «красной линии» застройки могло привести к сносу уже построенного дома. Каждому, кто желал строиться, отводился участок, выдавался «фасад» дома с планом жилых и подсобных помещений, завизированный губернатором. Обязательным условием получения таких документов являлось требование закончить строительство в течение трех лет.
Жесткие меры Д.И. Чичерина привели к тому, что с конца 1760-х годов Тюмень стала застраиваться по принципам регулярного градостроительства. Геометрически правильная сетка улиц, безусловно, способствовала упорядочению застройки. На месте погибших в огне неправильных кварталов, стихийно сложившихся за предшествовавшие 180 лет, были нарезаны строгие прямоугольники. Ушли в прошлое городские и острожные стены с их высокими рублеными башнями. Начал создаваться новый город с более упорядоченной планировкой.
Одновременно сохранялась основная планировочная ось Тюмени, проходившая вдоль современной улицы Республики. Площади вокруг церквей исчезли и были вовлечены в квартальную застройку.
Центральное положение по проекту должен был занять гостиный двор – еще одно свидетельство изменившейся функциональной структуры города. Регулярный план закрепил расширившиеся границы Тюмени. В застройку вошли Большое, Малое и Царево городища, резервные территории разросшейся Ямской слободы и заречной части. Но основным местом строительства оставалась территория главного Тюменского мыса. Семь церквей усложняли силуэт центральной части Тюмени. При этом каждая из них имела свою градостроительную функцию.
Расположение других церквей тоже повлияло на архитектурный облик «регулярной» Тюмени, ибо заставило предусмотреть планом неравновеликие кварталы городской застройки. При этом, занимая рядовое положение в застройке, сами храмы в архитектуре улиц стали играть лишь камерную, локальную роль.
Несмотря на строго классицистический подход к планировке города, главная площадь на стрелке Тюменского мыса почти не упорядочивалась, если не считать центрально расположенного здесь здания гостиного двора с двумя фланкирующими деревянными корпусами мелочных рядов и фонтана по оси гостиного двора. Очевидно, это было данью прошлому опыту и традициям.
Три каменных здания располагались на главной площади в
1770-е годы: Благовещенский собор, двухэтажное здание магистрата (позже – Присутственные места) и строящийся винный подвал. Вдоль берега Туры, севернее собора, размещались амбары для казенных припасов и здание тюремного острога. По берегу Тюменки, севернее винного подвала, располагались три деревянных административных здания, в том числе воеводская канцелярия и гауптвахта.
В структуре исторического центра Тюмени большую роль играло Царево городище – островок между оврагами, на котором когда-то размещалась Чинги-Тура. Оно являлось своеобразным соединительным звеном между Затюменкой и центральной частью города. Перекличка этих трех городских зон – важнейшая отличительная особенность Тюмени XVIII века.
Еще в 1728 году через речку Тюменку, разделяющую Затюменку и городской центр, соорудили грандиозный мост высотой около 20 метров и длиной 176 метров, который связал две большие площади, – явление не частое в русском зодчестве. Следуя ландшафтным условиям, одна площадь являлась как бы зеркальным отражением другой: каждая имела треугольную форму плана, заканчивалась спуском, на каждой из них было по церкви, за которыми начиналась «фоновая» застройка.
Специфика тюменской топографии объясняла еще одну особенность пространства основной части города, восточная граница которого выходила на береговой обрыв Туры, западная – на бровку большого лога, по дну которого протекала Тюменка. Это способствовало утверждению продольных направлений городских улиц как главенствующих в общей системе застройки центра Тюмени. Вдоль этих улиц тянулись кварталы одноэтажных деревянных домов, над которыми возвышались главы 10 каменных церквей и 9 колоколен.
С исчезновением крепостных стен и острога именно они наряду с ландшафтом стали играть решающую роль в формировании не только силуэта, но и структуры города.
Автор текста: О.Я. Зорина, Б.А. Жученко
Автор фото: из архива редакции
Источник: журнал "Тюмень"
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru
Отправить новость, фото, видеоили отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru


